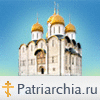Александр Архангельский – писатель, литературовед, автор и ведущий передачи «Тем временем» (телеканал «Культура»), автор школьных учебников по литературе.
Мы сегодня поговорим о Пастернаке. Начнем издалека, потому что мы говорим о стихах, а в поэзии проблемы художественного языка, возможность высказаться на эту тему не менее важна, чем содержательные вещи. Потому что в поэзии «как» часто бывает важнее, чем «что», ибо это и есть «что». Мы через язык, через высказывание сообщаем нечто, чего не сообщили бы иным способом.
Понятно, что в поэзии невероятное сопротивление литературному материалу, так же, как, впрочем, и в любом виде искусства. Если вы всю жизнь работаете в жанре реалистической живописи, то перейти в иконопись вам в разы тяжелее, чем если бы вы с нее начинали. И наоборот. Потому что ваша внутренняя форма и форма внешняя совпадают, и драма, если они расходятся.
Мы знаем (если выйти за пределы поэзии и поговорить о литературе в целом), что когда Гоголь вдруг на полном скаку пытается развернуться с романтики реалистической поэтики в сторону нравоучительной моралистической прозы, то его замысел ломается.
Мы видим, как великий, куда уж крупнее, писатель не справляется. И не потому, что он с замыслом не справляется, а потому что наработанный художественный язык ведет его в одну сторону, а его внутреннее содержание – в другую. И нестыковка. В этом отношении иногда поражение в литературе бывает важнее, чем удача.
Начну я как раз не с Пастернака, а с Пушкина, потому что вопрос о Пушкине и религиозной лирике часто сводится опять же к содержанию: Пушкин верил, не верил, в одну эпоху думал то, в другую это.
Но тут дело не только в этом. Дело в том, что, например, для державинского поколения совершенно естественно было писать стихи на библейские темы, потому что язык священной литературы был впитан с молоком матери. Их учили дьячки, и не было еще разрыва в восприятии. Это поколение читало по-церковнославянски, а французский был дополнительным языком.
Поколение Пушкина уже не читало по-церковнославянски, то есть могло читать, но это примерно, как я, может быть, по-немецки прочту, но большой нужды нет, и точно совершенно, что на ночь по-немецки читать не буду. Для того чтобы это было живое литературное событие, надо, чтобы ты в этом языке жил, чтобы ты этим языком дышал. И произошел разрыв.
Совершенно точно, что заново вернул и литературу, и современное общество к возможности высказывания на религиозные темы на современном литературном языке будущий митрополит Филарет (Дроздов), святитель Филарет. И в этом его, может быть, главная заслуга перед русской литературой, а вовсе не в том, что он переписывался с Пушкиным, писал ему довольно забавные стихи. Он возглавил работу по переводу Священного Писания на современный тогдашний русский язык.
И нам трудно понять величие этого события: он заново создавал возможность высказывания здесь и сейчас не на ушедшем славянском языке, не на французском, который прекрасный язык, но все-таки не родной, а на родном языке. В 1819-1821 годах вышло Четвероевангелие по-русски, сначала пробным тиражом, потом основным а затем был начат путь к Пятикнижию Моисееву, первый тираж которого, как вы знаете, был сожжен. Там был чудовищный скандал.
Но, как бы то ни было, митрополит Филарет русскую литературу развернул. Он мог с ней ссориться, он мог ругаться на Пушкина, что у него «галки на крестах», – это все побоку, это все ушло, это осталось в малой истории литературы. А в большой истории литературы осталось то, что был заново создан язык.
Я покажу свою любимую картинку. Я сейчас пущу ее по рядам, только умоляю мне вернуть, потому что это моя любимая картинка. Это архимандрит Зенон написал икону Филарета (Дроздова). Это вполне в традиции – тут Пушкин, без нимба, так что все нормально, он собеседует со святым. Она чуть-чуть иронична.
В этом момент самое существенное как раз и началось – начался путь современной живой русской лирики навстречу религиозным темам. Теперь человек может попытаться рассказать о своих переживаниях не на высоком библейском, а на живом языке.
У Пушкина в рукописях 1836 года сохранилось несколько стихотворений, помеченных странными цифрами. Например, в рукописях стоят римские II, IV, то ли VI, то ли V – непонятно. Практически на всех так или иначе указано, что они написаны на пушкинской даче на Каменном острове. Исследователи этих стихотворений довольно поздно задумались над тем, что эти цифры означают, и предположили, что Пушкин пытался выстроить лирический цикл. О чем – непонятно.
Долго спорили о том, какая цифра что значит. Я не буду погружать вас в историю вопроса, это все-таки не филологическая лекция, а литературный разговор. Но в конечном счете, после долгих литературоведческих споров, пришли к выводу, что в отношении как минимум трех стихотворений точно понятно, что означают эти цифры. Эти три стихотворения всем нам хорошо знакомы – 2-е, 3-е и 4-е: «Отцы пустынники и жены непорочны» (сейчас мы даже некоторые фрагменты прочитаем), «Как с древа сорвался предатель-ученик» («Подражание итальянскому») и «Мирская власть».
Непонятно, какая цифра стоит на стихотворении «Из Пиндемонти» – то ли I, то ли VI, но нам это и неважно. Если замысел до конца не оформился, нам достаточно того ядра, с которым мы имеем дело. Что это за ядро? Это ядро лирических стихотворений, которые говорят о нескольких вещах: первое – о религиозном переживании поэта, второе – о чудовищном устройстве социальной реальности, третье – о поэтической свободе. Как эти три темы пересекаются, не всегда понятно, если мы не понимаем, в каком поэтическом контексте это находится. Это первое соображение.
Второе: все эти стихи не относятся к вершинам пушкинских творений. Они –замечательные, великие, но если мы ставим рядом «Пророка» и «Отцы пустынники», то «Отцы пустынники» – это стихотворение, написать которое мечтал бы любой лирик, но все-таки «Пророк» – это «Пророк», а «Отцы пустынники» – это «Отцы пустынники». Но там есть, повторяю, опыт некоторой неудачи. Мы не можем применительно к Пушкину говорить о неудаче, но некоторые неудачи сравнительно с его собственными предшествующими прорывами иногда бывают важнее, чем удачи.
Почему? Потому что поэт начинает разворачиваться в ту сторону, в которую никто не шел. Он первым идет в темноте на ощупь, потому что считает, что этот путь принципиально важен и за этим путем будущее, по этому пути пойдут потом другие. Давайте разберем эти стихи один за другим и посмотрим, как намечается не сложившийся в конечном счете поэтический цикл.
Нужно перечитывать или нет «Отцы пустынники»? Помашите мне рукой, если нужно.
Хорошо. Тем более оно короткое, можем себе позволить.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Понятно, что это переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина, на протяжении столетий читаемой в церкви из года в год, Также понятно, что церковнославянский текст этой молитвы все-таки сильнее, чем ее поэтическое переложение даже такого великого поэта, как Пушкин.
Но ему все равно. Ему важно сделать то, чего до него никто не делал. На этом не религиозном, почти бытовом, светском языке, с легкими выходами на религиозную стилистику, рассказать о том, что переживает не вообще верующий, не святой, а он сам, такой, какой есть, здесь и сейчас. И это для него принципиально важно, и он намечает внутренний сюжет этого цикла – поэт в Страстную…
Мы поймем потом, что там перед нами Страстная неделя. Поэт – лирический герой Великим постом. Причем это не переживание просто прихожанина, это все-таки переживание поэта: я, мой лирический герой и Великий пост.
Дальше стихотворение второе – «Как с древа сорвался предатель-ученик», оно в рукописи обозначается как «Подражание итальянскому». Вообще про подражание сейчас тоже поговорим, а сейчас прочитаем стихотворение.
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной…
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.
Здесь ему проще высказываться. Во-первых, подражание итальянскому – этому некоторому общему языку искусства. Во-вторых, драматический сюжет. В-третьих, совершенно понятно, что проще себя, такого, как ты есть, сопоставить с этим сюжетом, нежели с Ефремом Сириным или не будем уже говорить с кем.
Дальше возникает следующее стихотворение, которое в этом цикле, несомненно, присутствует, это – «Мирская власть». Оно приурочено, естественно, непосредственно к Страстной седмице.
Когда великое свершилось торжество
И в муках на кресте кончалось Божество,
Тогда со стороны животворяща Древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли, бледные, две слабые жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Возникают религиозные, апокрифические мотивы, но сейчас вдаваться в них не будем, детали явно перевраны по сравнению с канонической версией, но ему это не так важно. Важно, что теперь:
… у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере два грозных часовых.
И дальше начинается феерическое обличение. И мы чувствуем, и он чувствует, несомненно, как ломается тема. Он-то хочет про глубокое, религиозное переживание, но язык разворачивает его в более привычную сторону, начинается обличение существующего миропорядка, власти предержащей и так далее.
Тем не менее, сюжет начинает прорисовываться: я такой, какой я есть, мир, в котором я живу, какой он есть, и вот те вечные события, которые каждый год мы переживаем не просто Великим Постом, а в Страстную неделю и движемся навстречу Воскресению. Неслучайно некоторые исследователи предполагают, что «Памятник», всем нам известный, должен был быть последним в ряду этого цикла. «Памятник» – о бессмертии своей души, но в нем тема Воскресения имплицитно присутствует, она там не проявлена, но она есть.
Я не хочу уходить слишком глубоко, но я вот что хочу сказать. Пушкин пробует наметить сложный лирический сюжет, когда обычный человек (но при этом поэт) ставит себя перед лицом евангельских событий и соотносит свою жизнь, свои переживания, свое состояние с тем, что происходит в этот самый момент в вечности. Это пока у него не очень получается.
Повторяю: слишком легко уйти в сатирическое, слишком легко уйти в политическое. Стихотворение «Из Пиндемонти», которое мы все знаем, вроде бы про другое, но оно внутри этого цикла. Пушкин намечает этот путь. У него нет готовых, разработанных ритмов, подходящих для этого высказывания, у него нет сложившегося языка, но он прокладывает этот путь, он движется в этом направлении. Он, как во многом, намечает путь, по которому пойдет русская лирика.
Причем в этой работе по выработке живого поэтического языка, на котором можно говорить о своих религиозных переживаниях, не превращаясь в составителя акафистов, а оставаясь современным лирическим поэтом, этот путь занимает долгие и долгие годы.
Я, как современный продвинутый человек, скопировал и сфотографировал, чтобы не тащить слишком толстую книжку. Приведу пример из второй половины XIX века, вы потом поймете, что все это связано с пастернаковской темой, мы к этому придем, просто надо пройти путь, не пропуская стадий. Мей пишет цикл «Библейские мотивы». И там, в «Библейских мотивах», есть чудовищно длинное стихотворение, читать целиком его не буду, но вот несколько фрагментов, чтобы почувствовать.
К Пастернаку это уже имеет непосредственное отношение. Уже по этому пути можно идти. Уже есть обороты, которые не архаические, но в то же время и архаические. И современные, и старомодные – вот есть уже это живое, современное. Но нет еще ритма, а ритм – это невероятно важно. У каждого ритмического рисунка возникают рано или поздно шлейфы.
Совершенно очевидно, что в русской поэзии четырехстопный хорей напрямую связан с темой дороги, тревоги и надежды. Про это есть замечательная работа Михаила Леоновича Гаспарова. Этот ритм сложился. Поэт начинает говорить; и если он пошел по пути четырехстопного хорея, его понесло сразу на тему пути, тему тревоги и тему надежды. Внутри этого ритма уже вычленяются целые циклы на определенные темы, но мы сейчас про это говорить не можем.
А для евангельской лирики разработанного ритма нет. И Мей первым закрепляет за амфибрахием, разностопным причем амфибрахием, эту тему, и возникает семантический шлейф, который вызывает внутреннюю ассоциацию не просто с библейскими, а с евангельскими событиями.
На горе первозданной стояли они,
И над ними, бездонны и сини,
Поднялись небосводы пустыни.
А под ними земля – вся в тумане, в тени.
И Один был блистательней неба:
Благодать изливалась из кротких очей,
И сиял над главою венец из лучей.
А другой был мрачнее эреба…
Теперь прочитаю сразу, чтобы показать, что Пастернак в этом смысле Мея читал внимательно и слышал отголоски.
Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.
Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч, и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.
И в горечи, спорившей с горечью моря…
И так далее. Понятно, что в этом смысле Пастернак приходит на готовенькое. Он уже на той вершине, куда привел огромный путь, начавшийся еще в пушкинскую эпоху, путь проработки языка, проработки ритма, высвобождения внутренней литературной энергии. Пастернак уже может говорить абсолютно свободно. Если бы этот путь не был пройден, то, несомненно, великий лирический цикл стихотворений доктора Юрия Живаго, к которому мы сейчас перейдем, не был бы реализован.
Но до этого и помимо этого нужно было пройти еще одну стадию в старом, антично-библейском смысле слова – это тематические проработки, проработки тематических ассоциаций. Сам Пастернак, не будучи человеком церковно-укорененным, не ассоциируя себя внутренне с церковью, тем не менее, одну из ранних своих книг (книгу, которая, собственно, и сделала его большим лирическим поэтом) не случайно назвал «Сестра моя – жизнь».
Понятное дело, что это «Цветочки св. Франциска Ассизского», которые были изданы по-русски незадолго до этой книги с предисловием его доброго товарища Сергея Дурылина. Сергей Дурылин позже станет священником, через какое-то время то ли снимет с себя сан, то ли нет (до сих пор мы точно не знаем, снял ли он с себя сан или нет), станет историком Малого театра и автором книги о Нестерове, это была сложная фигура. Пастернак, прочитав «Цветочки св. Франциска Ассизского», называет свою книгу «Сестра моя – жизнь» – словами Франциска. Но смыкает несколько тем – тема радостного христианства.
В предисловии Сергея Николаевича Дурылина к «Цветочкам св. Франциска Ассизского» про это прямо и говорится. Там довольно все схематично: вот, было мрачное средневековье, и христианство было мрачное, а потом приходит Франциск Ассизский, и начинается радостное христианство. Это отчасти правда, потому что Франциск Ассизский, несомненно, – это радостное христианство. Насчет средневековья чуть сложнее, но нам неважно. Пастернак воспринимал так.
И эта тема – радостной, воскрешающей саму себя жизни – тема русской революции, потому что книга «Сестра моя – жизнь» посвящена революции 1917 года, но не октябрьской, а февральской. Тема лермонтовская, потому что книга «Сестра моя – жизнь» посвящена Лермонтову, первый цикл открывает стихотворение «Памяти Демона». С одной стороны – Франциск Ассизский, христианство, радость, воскрешение, с другой стороны – Демон, Лермонтов и революция.
Эти две темы – демоническая, революционная и экстатическая, радостная, воскрешающая саму себя жизнь – переплетаются в сборнике «Сестра моя – жизнь», и это проходит через всю лирическую стихию этого сборника. Там есть вещи, которые могут показаться кощунственными чересчур суровому ревнителю благочестия, например: «Когда поездов расписанье… читаешь в купе, оно грандиозней святого писанья, хотя его сызнова все перечти». Для него это принципиально важно. Та жизнь, которая его окружает, та революционная стихия, которая ворвалась в эту жизнь и воскресила ее, связана с теми переживаниями, которые Пастернак вычитывал у Франциска Ассизского.
Если очень грубо, то вот несколько важных вещей. Первое: путь, к которому пришел Пастернак в своем цикле стихотворений Юрия Живаго, начался вовсе даже не когда Пастернак пришел в литературу, а как минимум с Пушкина, с его каменноостровского цикла.
В этом цикле впервые судьба поэта и не скажу судьба самого Христа, но как минимум размышления о судьбе Христа тематически связываются, выстраиваются в параллель. У Пушкина не сложилось, но он первым сделал этот шаг. Второе: ритмические, языковые и иные готовые конструкции, которые можно использовать, уходя вглубь, не тратя время на преодоление или на сопротивление, литературного материала.
Третье: выстроившаяся уже ассоциативная связь между темой русской революции, судьбы человека в революционную эпоху и его религиозного призвания и испытания, которое выпадает на его долю. Все это сложилось уже к тому моменту, когда Пастернак приступил к работе над романом «Доктор Живаго».
Я не буду напоминать историю создания романа, но о некоторых вещах, которые про стихи, в основном, все-таки напомню. Когда Пастернак начинал работу над романом, он работал над двумя вещами – над переводом «Гамлета» и над переводом «Фауста». Он не просто работал, он размышлял над темой Гамлета и над темой Фауста.
Несомненно, у него сложилась какая-то очень четкая символическая рамка. Каждый в этом революционном мире должен выбрать, кто он – страдающий Гамлет или приносящий страдания Фауст. Ясно совершенно, что Гете, работая над Фаустом, не очень думал про Гамлета. Это не историко-литературное наблюдение, это писательская ассоциация. Пастернак, войдя вглубь Шекспира и вглубь Гете внутри самого себя, как переводчик обоих текстов, выстроил эту дугу, которая искрит.
Наш человеческий путь зажат между полюсом Гамлета (неспособного ничего изменить, но способного впустить в себя страдания эпохи и соединить собою разорвавшуюся ткань существования) и Фауста (который гениально одарен, который активен, который вторгается в эту жизнь и, пытаясь ее преобразовать, в конечном счете оказывается слугой Мефистофеля). И то знаменитое восклицание, которое в советское время так любили выдавать за преобразовательный пафос: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – это признание, что душа его переходит к Мефистофелю.
В какой момент это произносится? Это произносится в тот момент, когда там строительство дамбы в самом разгаре, уничтожают Филемона и Бавкиду, счастливую пару, ради того, чтобы реализовался этот преобразовательный пафос. И слепой Фауст, слыша, как стучат кирки, думает, что это победа над природной стихией, а это роют его могилу. Повторяю: для Пастернака в эту страшную эпоху есть путь Гамлета и есть путь Фауста.
Если вы внимательно читаете «Фауста» в пастернаковском переводе (а Пастернак был довольно вольным переводчиком; если вы хотите понимать, как писали авторы, а не как думал о них Пастернак, то надо читать другие переводы, но чтобы получить литературное впечатление, нужно читать его), то видите, что он туда зашил прямые ссылки на свою эпоху.
Например, там слово «Сталин» в сцене строительства страшного города зашито вполне традиционным ассоциативным слоем. И строительство дамбы само собой начинает ассоциироваться с Гулагом, это в сталинскую эпоху работа идет, и понятно, что он сам с собой разговаривает через этот перевод.
Так вот, рамка доктора Живаго. Сюжет романа ставит героя перед жестким выбором: ты идешь каким путем – путем Гамлета или путем Фауста? Если ты идешь путем Гамлета (как, в конечном счете, идет Юрий Андреевич Живаго), то ты терпишь сокрушительное поражение, причем в итоге жизнь твоя обнуляется, и ты нигде и никто, и ты не реализуешь то, что в тебя заложено Богом. Либо ты выбираешь путь Фауста, вторгаешься в историю, начинаешь ломать ее об колено и превращаешься в Стрельникова, в героя-антагониста Патулю, и, в конечном счете, предаешь всех.
Лара, которая зажата между этими двумя полюсами – безвольным Юрием Андреевичем и сверхволевым Стрельниковым, оказывается жертвой, потому что в конечном счете она достается Комаровскому. Эта рамка, в которой нет сюжетного выхода из тех тупиков, в какие человека ведет история. XX век в изображении Пастернака (по крайней мере, как мы его видим в романе «Доктор Живаго») – это сюжетная безысходность.
И дальше только две дорожки – одна дорожка гамлетовская, ведущая к смерти в трамвае, другая дорожка Стрельникова, ведущая к гибели на поле боя. И жертвой оказываются эта женственная стихия Лары, которая олицетворяет собой Россию, и потерянная дочка, которая появляется в финале романа, которая нигде, никто, она выпала из этого мира. И это поражение.
Все было бы так, если бы гамлетовский путь не позволял уйти в лирическое начало. Понимаете, про что я? Путь Фауста – это путь катастрофический и только. Путь Гамлета – это путь катастрофический, но не только. То, что человек гамлетовского типа не может прожить в той реальной жизни, какую ему отводит революционный век, он может прожить в параллельном мире, куда ему открывает выход поэзия. Поэтому пастернаковский цикл стихотворений Юрия Живаго не мог не быть написан.
Нет романа «Доктор Живаго», если мы отрезаем стихотворения, потому что если мы отрезаем стихотворения, получается герой, отдавший свою возлюбленную злодею Комаровскому, злому гению, не спасший свою дочь, не реализовавший ничего и задыхающийся от пустоты мира, окружающего его, в трамвае, идущем по Большой Никитской через Кудринскую площадь вниз к зоопарку. Он там умирает. Это если нет лирики.
Но лирика есть. Причем посмотрите на имя: Юрий, Георгий – чудо Георгия о змие. Это то, что судьба как бы ему намечает, и то, что он не реализует. Он должен совершить чудо о змие, но он его не совершает, он не может его совершить. Он Андреевич – это Андрей Первозванный, он призван, он избран, он должен изменить мир, он должен принести этот крест в этот мир, он его не приносит. Живаго – понятная ассоциация про Бога живаго, понятно сопоставление героя с… не хочу договаривать. И это не случается. Ни имя, ни отчество, ни фамилия в реальной жизни не срабатывают. А где срабатывают?
Срабатывают в тех стихах, которые он пишет, которые открывают ему выход за пределы этого обреченного мира. Замечу в скобках, что Пастернак не знал, видимо, «Стихов о Неизвестном солдате» Мандельштама, но если вы преодолеете страх перед этим текстом, который нагнали исследователи, и перечитаете мандельштамовские «Стихи о Неизвестном солдате», то поймете, что это очень простые стихи, в которых не надо вдаваться в отдельные детали, а надо идти, как сквозь болото по мерцающим огонькам от кочки к кочке, и там все очень просто: есть метафора шара и метафора провала. Все там – земной шар, могила. Виноградины созвездий, провал ночи. Жизнь в ее объеме, смерть в ее изъятии. И в финале круглый младенческий лоб превращается в череп с провалами глазниц. Шар – провал, шар – провал, шар – провал. Жизнь и смерть.
В конечном счете, там лирический герой, тоже потерпевший сокрушительное поражение, уходит в безумие, как в последний шанс, оставленный Богом человеку, когда мир его уничтожает. Он же уходит в себя, когда начинается перекличка: «Я рожден в девяносто одном ненадежном году — и столетья окружают меня огнем» – это про что? Это про то, как в своем подсознании человек, ушедший из этого мира в свое безумие, возвращается в момент рождения и идет на перекличку Страшного суда до Страшного суда.
Примерно то же самое происходит у доктора Живаго. В жизни (эта эпоха не оставляет человеку шанса) деятельность губительна, бездействие губительно, но остается то, что живет внутри него и на что мир покушается и покуситься до конца не может: остаются его лирические стихи. Вот теперь давайте посмотрим, как строится этот цикл, и вспомним и поймем, почему мы начали с Пушкина, продолжили Меем и вспомнили о книге «Сестра моя – жизнь». Стихотворения Юрия Живаго открываются «Гамлетом». Я его позволю себе прочесть.
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.
Это стихотворение со множеством встроенных зеркал. Во-первых, есть поэт Пастернак, у него есть его альтер-эго, поэт Юрий Андреевич Живаго. У Юрия Андреевича Живаго есть лирический герой. Лирический герой Юрия Андреевича Живаго представляет себя Гамлетом, выходящим на сцену и проживающим в театральном подобии ужас гефсиманской ночи. Это все не случайно, мы поймем почему.
В первом стихотворении задается, с одной стороны, весь символический ряд, который потом будет реализован, а с другой стороны, в первом стихотворении ставятся некоторые ограничители, которые будут сняты в последующих. Это немножко игра, правда ведь? Это театр, это немножко условность.
Это «чашу мимо пронеси» – метафора, но не наполненная реальным смыслом, это не моление о чаше, это не Гефсиманский сад. Это театр, это пока игра. Во-вторых, в этом стихотворении есть отказ: «но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь». Самое существенное, что здесь есть идея неотвратимости конца пути. Здесь как бы зеркало в зеркало – они ведут в бесконечность. Пастернак разыгрывает очень сложную тему. Конечно, здесь ассоциации с Лермонтовым, которому посвящена книга «Сестра моя – жизнь», очевидны. «Выхожу один я на дорогу» – здесь дышит сквозь каждую строчку.
Причем Пастернак был хорошим читателем, он понимал, что у Лермонтова это стихи о вечном покое, когда никакого покоя нет, и о такой смерти, когда ты по-прежнему ощущаешь жизнь, и о таком растворении во Вселенной, когда Вселенная все равно по-прежнему вращается вокруг тебя. Даже синтаксически в этом стихотворении у Лермонтова это выражено: «надо мной, чтоб вечно зеленея…». Не просто «чтоб вечно зеленея…», а «надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Я все равно в центре мира, я так хочу уснуть и такого хочу покоя, чтобы мир все равно дышал вокруг меня. И это в этом стихотворении присутствует.
Здесь намечается очень важная тема – герой на фоне гефсиманской ночи. Это только намечено, это только вброшено, только поставлено как тема. Это то сопоставление, которое Пушкин нащупывал в каменноостровском цикле. Я, поэт, – и евангельское страдание Христа: как это соотнести через современность, так, чтобы это не было богохульно, но не было и робко, потому что поэзия и робость – это вещи несовместимые?
Давайте пропустим все стихотворения, сразу выйдем в финал, в 25-е стихотворение «Гефсиманский сад» и сравним его с первым. В первом, повторяю, тема гефсиманской ночи есть, тема одиночества и ужаса перед предстоящим выбором есть, но есть и идея, что у пути имеется конец, что можно отказаться и что это всего лишь театральный зал. что это не звезды, как у Лермонтова, а «бинокли на оси», это они мерцают в темноте зрительного зала.
Но вот мы уже в Гефсиманском саду, путь пройден. Поэт прошел лирический цикл, и мы оказываемся в Гефсиманском саду, где уже ночь, уже звезды, а не темнота театрального зала.
Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: “Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной”.
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь, как смертные, как мы.
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
Не зал, а сад, не приглушенный свет, а темнота, не бинокли, а звезды и реальная жертва впереди, а не игра на тему жертвы. А теперь посмотрим, есть ли в этом стихотворении идея конца. Последние строфы, когда Христос обращается к Отцу.
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
Начиналось с чего? «Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь». А здесь: «Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь».
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Конца здесь нет. Все, конец отменен – те будущие столетья, которые еще не наступили, поплывут из темноты, и этот свет скрасит собой одиночество гефсиманской ночи. Тот свет и будет отражением крестного света. Понимаете, что происходит?
Между двумя этими стихотворениями разворачивается цикл. Можем ли мы сказать, что в этом цикле только стихи на религиозные темы? Вовсе нет. Там есть любовная лирика, там есть пейзажная лирика, там есть эротическая, тонко проговоренная тема, там есть стихотворения, которые отсылают нас к сюжету романа, есть стихотворения, которые никак нас к сюжету романа не отсылают, но так или иначе, в том или ином виде все стихотворения этого цикла ставят лирического героя, и всю человеческую историю, и каждого из нас перед лицом страстей Христовых. Как мы проживаем в своем маленьком подобии то, что однажды перед крестом пережил Христос? И вот это и дает смысл всему, что в этой жизни есть, и лишает смысла все, что с этим не связано.
Именно поэтому сюда попадает стихотворение «Смоковница», которое есть размышление на тему бесплодия, и это очень жесткое стихотворение, оно жестче даже, чем притча о смоковнице в Евангелии, потому что оно про то самое бесплодие, которое преследует Стрельникова и самого Юрия Андреевича Живаго. Они в своей исторической жизни – смоковницы.
Но Юрий Андреевич Живаго прожил эту жизнь в параллельном пространстве, в литературе, в поэзии, поэтому он не бесплоден. Бесплоден только Патуля Стрельников, ломающий эту жизнь. Но, так или иначе, через все эти стихотворения проходит тема смерти и Воскресения, тема крестной муки и оживляющего страдания, тема революции как вызова, революции как катастрофы и революции как надежды. Причем Пастернак играет на полюсах. Сразу за стихотворением «Гамлет», где театр, бинокли на оси и так далее, идет «Март», прославляющий живое начало природы:
И всего живитель и виновник,
Пахнет свежим воздухом навоз.
И через все проходит эта тема – тема чего? Возвращающейся и умирающей жизни. Это «Сестра моя – жизнь» – она либо живая, либо мертвая, она либо воскресает, либо умирает. И, так или иначе, практически через весь этот цикл эта тема проходит, так же, как почти всегда рядом стихотворение о смерти и стихотворение о жизни. Стихотворение «Ветер» предшествует стихотворению «Хмель».
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
Это разговор после смерти. И тут же («Хмель»):
Под ракитой, обвитой плющом.
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом.
Вкруг тебя мои руки обвиты.
Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем,
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.
Мы видим, как смерть переходит в жизнь, жизнь переходит в смерть, разлука переходит во встречу, а свидание оборачивается разлукой, причем разлукой, которая навсегда, как в стихотворении «Свидание».
Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.
Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.
Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.
Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.
И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура,
И это пальтецо.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
Что же связывает эту жизнь и эту смерть, эту надежду и эту безнадежность, это страдание и эту радость? А связывает их именно то, что в центре истории для Пастернака стоит Христос, Вифлеем, Гефсимания, и в той или иной степени каждая человеческая судьба с этим соотнесена.
Именно на этот вызов человек внутри себя отвечает или нет. Он может проиграть в жизни, как проигрывает Юрий Андреевич, но, если он не ответил на этот голос, идущий из глубины веков, он проиграет и свою вечную жизнь, чего Юрий Андреевич не делает. Поэтому Пастернак включает в этот цикл стихотворение «Рождественская звезда», которое строит на последовательных анахронизмах.
Стихотворение это вроде бы рассказывает нам о Вифлееме, о Рождестве. Давайте хотя бы несколько строф его вспомним и подумаем, так ли это или, может быть, не совсем так.
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Ритм узнаете – тянущийся, разностопный?
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Пока вроде бы Вифлеем, пока вроде бы 1-й год нашей эры. Но что они видят?
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
Понятное дело, что никаких надгробий в Иудее I века, да и последующих, быть не могло по определению. Погост – слово чересчур русское. Про оглоблю – молчу. Снег, конечно, выпадает в этих краях, но все-таки это не характерный вифлеемский пейзаж. Холодно, ветер – да, несомненно. Самое противное время года в этих краях.
При этом, если кто-то был в пастернаковском музее, особенно до того, как поле между переделкинским кладбищем и пастернаковским домом застроили, тот безошибочно узнает этот пейзаж – это вид из пастернаковского кабинета на кладбище, за которым видна переделкинская церковь.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Опять вроде бы Вифлеем. Смотрим дальше.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Тут уже никаких сомнений не остается: это в той же мере Вифлеем начала нашей эры, в какой и русская революция 1917-го года, и русский XX век, это в той же мере рассказ про ту Вифлеемскую звезду, как рассказ про Вифлеемскую звезду, которая каждый год восходит над каждым из нас, включая лирического героя этого стихотворения.
Это и есть то соотнесение частной человеческой судьбы и вечной евангельской истории, которое Пушкин пытался нащупать в своем каменноостровском цикле. Поскольку он шел первым, понятное дело, путь этот пройти он не сумел… Он просто открыл ворота, все силы ушли на это. Кстати говоря, некоторые исследователи предполагали, что стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу» (там тоже про кладбище) входит в тот же цикл, что это не просто кладбище, а тоже тема распятия и так далее.
Она возвышалась горящей скирдой (совсем уже, да?)
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
И дальше Пастернак гениально разворачивает всю мировую историю на фоне этого события, на фоне этой взошедшей звезды, на фоне этой вифлеемской встречи. Он описывает, что было, когда везли дары и так далее.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары.
Тем, что предстоит младенцу, родившемуся здесь и сейчас, оплачено все, что будет после. Все великолепие, которое мы проживаем, и весь ужас, который мы тоже проживаем (он тоже наш, потому что он был его). Это стихотворение оказывается центровым для всего этого цикла, связывающего тематически, сюжетно судьбу отдельного человека с евангельским сюжетом, со страстями Христовыми.
Заметьте, что как у Пушкина – это Страстная, так и здесь не напрямую, косвенно, полунамеком, но тоже судьба частного человека, отдельного человека в XX веке сопоставляется со Страстной, с надеждой Воскресения, но не с самим еще Воскресением. Мы подошли к стадии Гефсиманского сада, мы на Страстной. Это можно будет еще пережить, мы переживем, но мы пока до этого еще не дошли.
И тема Страстной так или иначе вспыхивает во множестве стихотворений. Там, впрочем, есть третье стихотворение, которое так и называется: «На Страстной».
Еще кругом ночная мгла.
Опять эта мгла, которая тоже проходит через весь цикл.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.
Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.
Но в полночь смолкнут тварь и плоть…
Заметьте, что до сих пор это было настоящее время. Как только мы подходим к теме Воскресения, время становится будущим, оно еще не наступило.
Но в полночь смолкнут тварь и плоть…
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.
Во всех этих стихах Воскресение остается как обещание. Вплоть до Гефсиманского сада. «Когда столетья поплывут» – опять будущее время. Там с будущим временем постоянно идет очень точная, на гениальной интуиции построенная игра, как про страсти Христовы здесь и сейчас, как про Воскресение как обещание – в будущем времени. Мы подступаем, но мы эту черту не переступим.
Это очень важно, потому что Пастернак ясно понимает, где заканчивается граница возможностей светской литературы – она всегда ломается на изображении того, что изображать не должно. Но она не может этого не делать, поэтому она должна постоянно подходить к этой границе, на этой границе замирать, давать ощущение приближения и отступать в сторону, иначе она перестанет быть светской. А собственно религиозной в узком смысле слова она не становится, и не нужно, это было бы опасно.
Где еще тема Воскресения вспыхивает и дает нам надежду в этом цикле? Стихотворение «Август», которое абсолютно автобиографическое и при этом абсолютно встроенное в основную сюжетику этого цикла.
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.
Пастернаку мало этого сверхсовременного языка, на котором он начинает говорить о невероятно тонких вещах, он уже идет, как часто вообще в стихах делает, совсем в просторечие, в бытовизм или в канцеляризм. Как только доходит до самых тонких вещей, у Пастернака либо то, либо другое, либо третье. «Любить иных – тяжелый крест, но ты прекрасна без извилин», и так далее.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Вот это «по какому поводу» – первый признак того, что это трепет в душе. Как у Пастернака трепет душевный, так, повторюсь, либо канцеляризм, либо просторечие, либо нечто невозможное.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
Это стихи о собственной смерти, пережитой в таком же подобии, в каком поэт будет переживать и собственное воскресение. Если бы это не был сон, если бы это было прямое выстраивание параллели – я, поэт, Христос воскресающий, – это было бы кощунство. Если бы этой параллели не было, это не была бы вольная поэзия. Это тогда был бы Ефрем Сирин, а не Пушкин и не Пастернак. А поскольку это сон, то можно в подобии описать свою смерть и в подобии описать свое воскресение.
Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:
“Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство”.
Теперь мы не можем не вспомнить про каменноостровский цикл. Пастернак ничего про этот цикл как цикл не знал. Он читал Пушкина внимательно, он читал в собрании сочинений подряд те стихи, которые вошли или должны были войти в каменноостровский цикл. Он мог сам, как поэт, почувствовать их внутреннюю рифмующуюся связь, но совершенно точно про то, что Пушкин планировал такой цикл, в котором судьба лирического героя и события Страстной седмицы или страстей Христовых выстраиваются в какую-то зыбкую параллель, не знал.
Но этот финал рифмуется с тем, что у Пушкина в том самом «Памятнике», которым, скорее всего, и должен был завершаться каменноостровский цикл о страстях человеческих, о страстях Господних. И это внутренняя угадка, это не знание, а внутренняя перекличка. Да, смерть означает жизнь. Уход означает возвращение. Разлука означает встречу. Про это говорит поэзия. И у Пушкина, собственно говоря, Воскресение через литературное воскресение описано, это тоже очень точно. Этим он, конечно, отличается от Горация, у которого не воскресение, а нечто иное.
Таким образом, этот цикл выстраивается вокруг этой параллели, вокруг страстей Страстной и судьбы поэта, в своей душе способного увидеть евангельское время, как время, находящееся здесь и сейчас, эти события, как происходящие не с кем-то когда-то, а с нами, при нас. Мы подчас не можем в своей жизни ответить на тот вызов, который бросает нам евангельская история. Но мы не можем не ответить на этот вызов хоть в чем-то. Это и есть тот талант, который был дан и который принес сторичный плод.
Последнее, что я в связи с этим циклом хотел бы сказать… Да, тут есть и проекции собственной судьбы, не реализованной в жизни. Мы говорили, что имя «Юрий Андреевич Живаго» – это «Юрий» – чудо Георгия о змие, «Андрей» – Первозванный, «Живаго», и все три имени не работают. Но в стихах это работает, там, где сказка, стихотворение-сказка, – это проекция чуда Георгия о змие, пропущенная через фольклорные фильтры, чтобы там не было чересчур высокого пафоса, но и адресованная героем самому себе. В стихах он это пережил: он бросается в бой, он спасает возлюбленную. В жизни все ровным счетом наоборот. Он Лару отдает Комаровскому. Но здесь он переживает иначе:
Светел свод полдневный, синева нежна.
Кто она? Царевна, дочь земли, княжна?
То в избытке счастья слезы в три ручья,
То душа во власти сна и забытья.
То возврат здоровья, то недвижность жил
От потери крови и упадка сил.
Но сердца их бьются,
То она, то он силятся очнуться и впадают в сон.
Сомкнутые веки, выси, облака,
Воды, броды, реки, годы и века.
Я не буду говорить о том, что там еще есть метафора города, который для Пастернака – небывалое событие истории и поэтому наделен для него религиозным статусом, так мы уйдем в какие-то дебри.
Скажу о другом – о том, что роман «Доктор Живаго» написан переводчиком «Гамлета» об эпохе торжествующего Фауста. Поэтому Пастернак, несомненно, не принял бы возражения многих читателей о том, что ничего христианского в Юрии Андреевиче Живаго нет. С его точки зрения, есть. Жертвенное, страдательное наклонение – это единственное, что остается человеку в эпоху победившего Фауста. Это то поражение, которое, может быть, дороже победы, и на этом, строго говоря, Пастернак и выстраивает свой цикл. Это то, о чем я хотел бы сам сказать. Давайте перейдем к вопросам.
Вопросы аудитории
– Вписываются ли рождественские стихи Иосифа Александровича Бродского в эту концепцию соотнесения своего частного с тем, что происходит в вечности? Или он что-то другое имел в виду, когда писал?
– Несомненно, Бродский был внимательным читателем Пастернака, но не пропастерначенным насквозь. Несомненно, его «Рождественский романс» некоторые пастернаковские мотивы учитывает, но примерно так же, как Пастернак чутьем, а не знанием угадывал, что стихотворение «Памятник» и темы творчества могут быть связаны с темой Воскресения. Он не воспроизводил, а отзывался, потому что там город как религиозное событие, надежда и безнадежность, я и вечность.
Но в этом стихотворении на этом все останавливается. А что касается «Сретения», то, во-первых, ритмически посмотрите, перечитайте его и вспомните весь путь, который русская поэзия прошла к тому, чтобы был готовый ритм для высказывания на евангельский сюжет.
Но там, я бы уже сказал, на грани с кощунством почти, потому что кто такая пророчица Анна и кого встречают, там тоже вопрос, там и этот подтекст есть. Но стихи, особенно стихи XX–XXI века, всегда многослойные, они как матрешка, их можно прочитать на этом уровне, на этом, на этом. И каждое прочтение будет справедливым.
Но там есть такие пласты, которые, наверное, совсем религиозно строгий человек не воспримет. Но, поскольку Иосиф Александрович Бродский не был строго религиозным человеком (Пастернак не был строго церковным, а этот не был строго религиозным), то его мнение строго религиозных людей не очень волновало.
Можно это стихотворение прочитать как гениальное высказывание на тему Сретения? Можно. Можно прочитать как полукощунственную игру в самого себя? Можно. Нужно или не нужно – это уже вопрос 25-й. Но то, что это соотнесение (вот я, поэт, живущий здесь и сейчас, вот вечные евангельские события и какая-то дуга, по которой бежит искра) есть, – это точно, это в рамках той парадигмы, которую мы пытались описать на протяжении полутора столетий.
– Пушкин открыл ворота, а Пастернак на этом материале как бы работал. А между ними кого бы вы могли назвать, кто глубоко прорабатывал эту тему? Какие поэты, на ваш взгляд?
– Вообще прорабатывали все. Несомненно, Лермонтов. Отчасти как богоборчество, отчасти как-то умиленно. Но богоборчество – это такой же разговор о Боге, как и любой другой, правда? В советской школе, когда изучали богоборческие стихи, не соображали, что, вообще-то говоря, богоборчество – это не атеизм, это строгий разговор с Создателем. Как всякий строгий разговор с Cоздателем, он подтверждает его бытие.
Но с языковой точки зрения, несомненно, конечно, прорыв – это эпоха декаданса и Серебряный век. Это уже проработка такая, что ты можешь сказать все. И Блок, и до этого Владимир Сергеевич Соловьев с некоторым перебором, потому что все-таки немножко там сгущены публицистические языковые краски. А так проще сказать, кто не делал. Вообще русская литература, независимо от личной позиции автора, от его взглядов, вся этим пронизана.
Смотрите, насколько Пушкину тяжело создать с нуля готовый язык лирического высказывания на религиозную тему (точнее – на евангельскую, на религиозную проще; про переживания как-то еще можно, но на евангельскую тему!), настолько поэту, который считал себя атеистом, Афанасию Фету, во второй половине XIX века трудно написать стихи, сквозь которые религиозное начало не просвечивало бы.
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом, раскинувшись, дрожал.
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.
Вся метафорика уже такая, она развернута. Язык же медленно формируется, но когда он формируется, он начинает мыслить за поэта. Это стихотворение о встрече с Творцом. Поэт считал, что он – атеист. Взгляды его здесь, а язык его ведет туда. И это очень важно. Действует правило в обе стороны – вы не можете выразить свое чувство и бьетесь о язык, когда этого языка нет, но когда он есть, то он сильнее, чем вы. Это, несомненно, так.
Дальше потребовались большие усилия для того, чтобы выработать язык для выражения атеистических переживаний, и то до конца не получилось. Тем более что такие стихи Фета, где, скорее, переживания человека без Бога, не трагические. Их нельзя будет даже использовать, потому что они подпадают под действие закона про борьбу с табаком.
Непогода – осень – куришь,
Куришь – все как будто мало.
Так что теперь даже это не сработает, хотя стихи по-своему замечательные.
– Попытка оправдать лирического героя и, в том числе, самого себя, что после него остались стихи – это именно оправдание. Это оправдание только лирического героя или можно так оправдаться любому человеку?
– Все-таки давайте разделим. То, что думал Пастернак, и то, что думаю я, – это разные вещи. Что думал Пастернак? Пастернак, несомненно, любит своего героя, считает его героем и страдает из-за того, что не жизнь сложилась так, не среда заела, а история построила, возвела вокруг него такие рвы, что по-другому невозможно, не могло быть иначе.
– Что касается моего взгляда, то я думаю, что эпохи бывают разные. В ту диетическую, в которой мы пока еще живем, такого оправдания быть не может. В те времена, про которые пишет Пастернак, я не жил. Если уж выбирать между Фаустом и Гамлетом, лучше Гамлет. Но мне кажется, что считать надо до трех как минимум, что не надо говорить, что есть только Гамлет или только Фауст. Еще есть и другие пути.
– А вот Маяковский прошел мимо?
– Маяковский, конечно, не прошел мимо. Весь ранний Маяковский – это такой Иов. А поздний, сравнительно поздний – это человек, который настолько трагически и всерьез разрывает с Богом, что все, что он относил к Богу, он относит к Ленину. Перечитайте поэму «Владимир Ильич Ленин» – это евангелие от Маяковского, несомненно. Потому что это ожидание воскрешения, это поэма про смерть ради вечности, и воскресение впереди.
Многие на самом деле всерьез верили. Мы же знаем, что Богданов ставил эксперименты с кровью, что все они, от Николая Федорова, пропустив его через марксистские фильтры, всерьез воспринимали идею научного воскрешения. Институт крови, который курировал Богданов, – это был институт, задачей которого было, в том числе, найти секрет вечной жизни. И умер он, ставя на себе один из этих научных экспериментов.
А мавзолей, что это такое, по-вашему, как не место будущего воскрешения? Его сохраняли для того, чтобы потом можно было научным путем воскресить. По крайней мере поначалу. Кстати, Пастернак биографически был связан со Збарским, который создавал как раз технологии мумифицирования Ленина. Они были довольно тесно связаны через уральский период пастернаковской биографии.
Если вы читаете Маяковского, как нужно читать большого поэта, вы видите, что это не просто игра в слова, что он просто переносит все церковные характеристики на своего бога, он надеется и уповает на его воскрешение. Конечно, он не прошел мимо.
– Надо перечитать.
– Уж раннего-то как минимум. И совсем позднего – это точно.
Я знаю силу слов, я знаю слов набат.
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба
Шагать четверкою своих дубовых ножек.
Это, вообще-то, вполне серьезный, большой поэт, очень большой. Повторяю, с точки зрения религиозного размышления он честно ссорится с Богом. Ну, некоторые, может быть, циники, такие в литературе были, но они работали не в лирическом жанре, а как-то, не знаю… Барков, наверное. Но это тоже последовательно, это тоже не шуточки – человек прошел этот путь до конца. «Ответ один – отказ, сдаю билет», – там все очень серьезно. Тоже не шутки.
Были моменты трагические, моменты глубочайшего духовного кризиса у Ивана Андреевича Крылова. Есть период его биографии, когда мы не знаем, чем он занимался. Он где-то был, а где точно? Какие-то следы появляются. Когда он перестал быть писателем XVIII века и еще не стал писателем XIX, есть короткий период. Знаю точно, что играл в карты на ярмарках, был бит. Знаю, что несколько раз поступал в службу. Остался, сейчас не помню в чьем, имении на зиму. Он был воспитателем детей и попросился остаться на зиму. И когда хозяева вернулись в теплое время, они увидели Крылова, бродящего по садам, обросшего, голого, с огромными отросшими ногтями, бородой и всклокоченными волосами. Его спросили, что с ним. Он сказал: «Я хотел быть, как Адам». Он проверял, как оно. Вот такой Иван Андреевич – от комедии к басням, а между тем, у его басен есть глубокий религиозный, а иногда антирелигиозный смысл.
Возьмем самую знаменитую русскую басню «Ворона и лисица». Нормальная басня говорит про то, как с пороками, олицетворяемыми басенными животными, нужно бороться и их исправлять. Мораль в конце на крючке висит, болтается, как должно быть правильно.
То есть сюжет, а потом объяснение, как из этого сюжета выйти. Как звучит басня «Ворона и лисица»? Ведь она начинается не словами «Вороне где-то бог послал кусочек сыра», она начинается моралью. И какая это мораль? «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок». Смотрите: слово «всегда» предполагает возможность исправить пороки? Нет. А зачем тогда басня? А басня – это иллюстрация к этому скептическому умозаключению. Никогда ничего в этом мире не поправишь.
Если посмотреть и почитать басенный свод Крылова, так, как он его составлял, – это квазирелигиозное. Он такой Екклезиаст, он на самом деле претендовал на большее, чем на звание баснописца, он такой светский евангелист, он пишет светское скептическое евангелие. Там тоже религиозное содержание. Казалось бы, где басня, а где религия? Там тоже это есть. Если это большая литература, то она вся всерьез и вся вокруг да около, именно вокруг да около, так или иначе. Конечно, у Крылова это глубочайшее скептическое умозаключение.
А Чехов? Он церковную службу знал, любил, понимал, но каковы были его религиозные взгляды, мы так до сих пор и не понимаем. Ванька Жуков – это про что? Дедушка – это кто? Кому пишут в Рождественскую ночь? Кому письмо никогда не дойдет? Кто оставил этот мир и Ваньку Жукова наедине с хозяйкой, которая тычет ему в харю неправильно почищенной селедкой? Это про что? Это глубоко религиозное сочинение, не менее скептическое, чем басня Ивана Андреевича Крылова про ворону и лисицу. И страшное, метафизически страшное.
– Про Крылова, про басни.
– Крылов скептик был, все-таки человек позднего XVIII века, прошедший через такие ломки, воспитанный в одной традиции, убедившийся, что традиции не работают. Прошедший в детстве через пугачевцев, видевший, что такое благочестивый православный народ, когда он звереет. Потом воспитание уже столичное и просветительская модель, и она ломается, потому что начинается революция и эта революция показывает, что и просвещенный человек может Вандею устроить.
Дальше он проверяет, как был Адам. А что это такое? Это проверка на излом просветительской концепции человека. Он на себе, на своей шкуре начинает это испытывать. И тогда он приходит к этому глубочайшему скепсису, но скепсис этот умудренный, то есть уже ничего не изменишь, так давайте сохранять то, что есть. По этому пути потом пойдет Карамзин: ничего не менять, русская история достигла пика, я ее сейчас опишу, зафиксирую и дальше ничего не трогаю.
– А Вяземский?
– Поздний Вяземский, да. Но там, может, возраст работает, не знаю. В старости все мы начинаем быть скептиками, конечно. Но, с другой стороны, есть и обратное. Тот же Чехов никогда не приближался к окончательному ответу. Он только подойдет к ответу «ответ один – отказ», так тут же сворачивает, идет обратно.
Почитайте его рассказы, более поздние, как раз с Ваньки (это 1886 год, если я правильно помню) начинается тот самый Чехов, которого мы знаем и любим. В «Архиерее» – ни да, ни нет. В «Степи» – ни да, ни нет. Как только он доходит до края, что нет ни Бога, ни смысла, ни вечности, то не договаривает, уходит в сторону. Как доходит до разговора с Богом, вдруг останавливается и разворачивается. В этом его бесконечном движении – его большое литературное поле.
Но еще раз говорю, что это не годится для воспитательных целей. Это годится для размышлений, которые важнее, чем готовые выводы. Личный путь, который русской литературой зафиксирован в первую очередь… Сейчас говорят о том, что наша русская литература зафиксировала нашу национальную традицию – наше представление о положительном человеке, о доблестях, но она в той же мере зафиксировала и представление об отрицательном человеке.
А в первую очередь она показала, как человека нельзя свести ни к этому, ни к этому, как он сложен, как в нем есть все, как ни один готовый ответ из конца задачника не подходит к постижению жизни. Она вся про это. Поэтому неудобно ею пользоваться, она не вмещается ни в какие рамки.
Только товарищ Сталин сказал, что она правильно воспитывает и формирует гражданина, и разрешил русскую классику в школьном курсе. Да, усеченную, да, перемешанную с правильными революционными произведениями. Да, интерпретированную в едином советском учебнике, как нужно было. Но она сама за себя говорит так, что она переиграла советскую власть. «За все, за все тебя благодарю» – это с кем разговор?
Конечно, это злой разговор, но это с кем разговаривают? «За тайные мучения страстей». И вся она про это. Советская власть подходила тематически: вот это отберем, там про Бога ничего нет, значит, годится. А там все про Бога. Даже когда про Ваньку Жукова. Она так устроена, и ни у кого еще не получалось, кроме, может быть… И то такой крайний русский авангард, тот же Хлебников: «Краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака!» Оно про что? Про это же.
– Первый вопрос: сколько было вариантов у прозаического текста «Доктора Живаго»? А второй вопрос как бы о смысле. Насколько сам Пастернак понимал то, что вы о нем рассказали? Сознательно ли зашифровывал он или так получилось?
– Пастернаковский роман не писался так, как «Война и мир». Мы знаем двенадцать вариантов «Войны и мира» – это двенадцать завершенных, концептуально разных текстов. Если бы Толстой остановился на первых вариантах, то, наверное, мы бы все считали, что Кутузов был не такой уж положительный персонаж русской истории, а, может быть, Барклай де Толли не такой плохой, потому что Толстой написал сильнее, чем история. Мы верим его последней версии, на которой он остановился, потому что это ему казалось в этот момент убедительным.
У Пастернака в 1936 году был прозаический набросок, где впервые появляется Живаго. Дальше он работал кусками, переписывая и так далее. Цельная редакция – фактически только финальная. Глав было множество вариантов. Что касается стихов, то как он работал? Если кто-нибудь видел когда-нибудь его рукописи, то это на длинных листах перебеленные стихи, а потом он все варианты подклеивал. То есть не черкал.
Пушкинская рукопись – она вся кучерявая, вся в разные стороны. А это листочек, знаете, как бывают детские картинки, которые листают, чтобы мультфильм получился. Там часто варианты просто подклеивают. Отгибаешь, смотришь, как оно было, чтобы все варианты жили, можно вернуться. Маяковский писал: «И пусть, озверев от помарок, про это пишет себе Пастернак, а мы… соглашайся, Тамара» Но он не от помарок зверел, а от переписывания. Это бесконечное переписывание, множество, множество, множество уточненных версий.
Единственная прижизненная публикация стихов из романа была в журнале «Знамя», по-моему, в 1948 году, – последняя прижизненная публикация пастернаковских стихов. Потом должен был быть сборник 1957-го, что ли, года, который не состоялся из-за Нобелевской премии. Но стоило ему умереть, как сразу сборник вышел. Так с 1948 года по 1961-й, то есть двенадцать лет, он был вне литературы. Был как переводчик – Гете, Шекспир и так далее, а в живой литературе не был. Он читал роман друзьям, первое чтение, если я правильно помню, было то ли у Ливановых в доме, то ли у великой пианистки Юдиной.
Второй вопрос: понимал ли он? Понимал иначе и описывал иначе. Он же не как литературовед работал со своим собственным наследием. Он не продумывал: вот сейчас сложим концепцию. Она сама складывалась. Но то, что Фауст и Гамлет жили в его сознании на протяжении всей этой работы, мы знаем по его письмам. Он без конца к этой теме возвращался. Она не могла не сказаться.
То, что герой его попадает в эти жизненные обстоятельства, а его антагонист Антипов попадает в противоположные, конечно, осознавал и писал их как альтернативу. Что Лара олицетворяет Россию, он, разумеется, понимал. Что Комаровский – почти театрализованный персонаж, грубовато написанный, тоже понимал, он его и писал грубовато, схематично. Ему нужен был злой гений. Чтобы никаких иллюзий не было, что в романе есть такой сложный персонаж Комаровский.
Он – не сложный персонаж, а примитивно простой. Ему нужен был злой гений, жестко написанный, ему нужен был плохо написанный герой. Он его и писал плохо, потому что понимал. Плоско писал, ему не нужен был здесь объем. Вот здесь нужен, а здесь – нет. Потому что этой плоской, черной части России достается ее живая душа. Он ведь, как ворон, как коршун, подхватывает и уносит, потому что два человека, которые должны были эту душу спасать, попали в те рамки, где они ее не спасают, а отдают ему. Только один повинен до конца, а другой – нет. То, что проиграл свою жизнь его герой, – да, так и задумывалось, и это видно. И то, что ему выхода нет, тоже понимал.
Где мы встречаемся по-настоящему с Юрием Андреевичем Живаго, если не считать сцену похорон матери? В поезде. Где начинается трагедия Живаго? Со сцены в поезде, когда погибает отец, а заканчивается роман смертью сына в трамвае.
Это вам не машина и не лошадь, это проложенные рельсы, с этого пути не соскочишь, это не ими проложено. Соскочить можно только в смерть – один Живаго кончает с собой, а другой погибает в трамвае… И в этом смысле, конечно, этот символ рельсов, проложенных не тобой, с которых не соскочишь, проходит от начала романа до конца. Понимал он это? Разумеется, понимал. Не глупенький был.
Бывает, автор интуитивный. Да, тоже нормально. Но этот не был чистым интуитивистом, этот все-таки размышлял и строил. Но там есть другая проблема – этот роман слишком конструктивен для той эпохи, которую Пастернак изображает.
Понятное дело, если ты строишь роман, как жесткую конструкцию, тебе нужна стабильная эпоха. Тогда все расставленные капканчики срабатывают, захватывают, все придуманные тобой связки вполне объяснимы. Если у тебя эпоха, которую ты изображаешь, разносит людей в разные стороны и никак не склеивает, а тебе нужно, чтобы они все время встречались, случайно оказывались в одном и том же месте, то начинается жесткое конструирование сюжета – это противоречие, из которого нет выхода.
Как у Пушкина еще не было языка для описания евангельских сюжетов, так и у Пастернака еще не было зрелого модернистского сознания. Он был ранний модернист. Поздний модернист просто решился бы развалить все, ему не нужна жесткая конструкция. Эпоха такая, и мы пишем так, а у него должно быть все со всем связано. Поэтому герои встречаются случайно. У него, когда все не склеивается, появляется тайный герой. И если есть плохой Комаровский, то обязательно должен быть Евграф Живаго, который, как ангел, все время вторгается в жизнь героя, спасает его, такой странный, двусмысленный персонаж.
Ну, что делать? Писатель на поколение помладше написал бы принципиально иначе, ничего ни с чем не стал бы соединять, разнесло так разнесло, не встретились значит не встретились. Появился и исчез. В том-то и дело, что он написал, а писатели младшего поколения не написали, вот и все.
Поэтому действительно это последний из русских романов христианский роман, который знает весь мир. Христианский не в том смысле, что герой соответствует идеалу христианина, а в том, что роман пронизан христианским чувством истории, истории как жертвы, истории как искупления, истории как трагедии, которую нужно принять. И этот роман оказал влияние на весь мир.
Спасибо вам!
Фото: Ефим Эрихман
Видео: Виктор Аромштам
http://www.pravmir.ru/boris-pasternak-chelovek-bog-istoriya-lektsiya-aleksandra-arhangelskogo-video/








 10 февраля 1890 года,
10 февраля 1890 года,